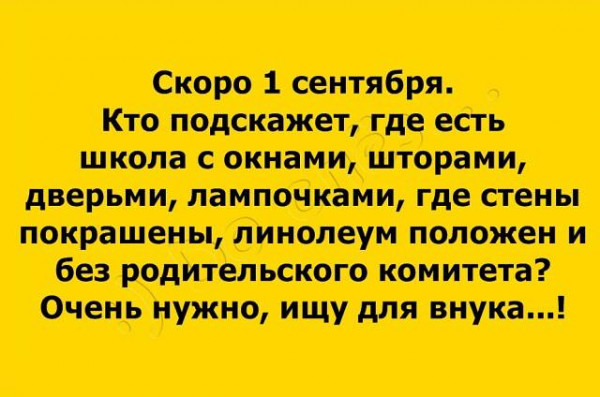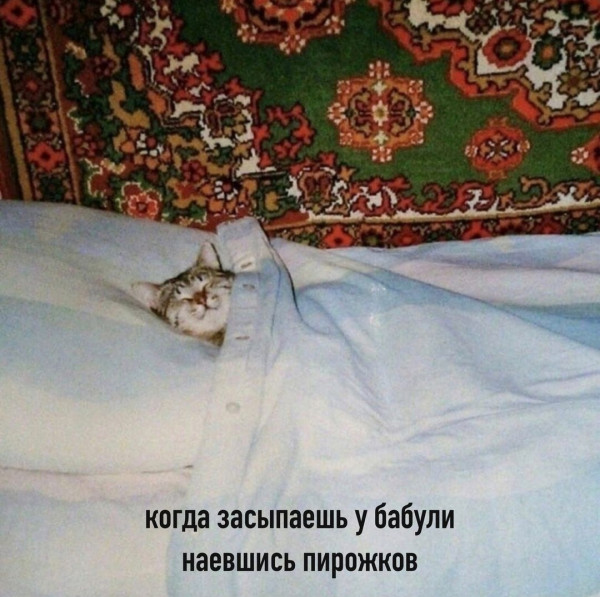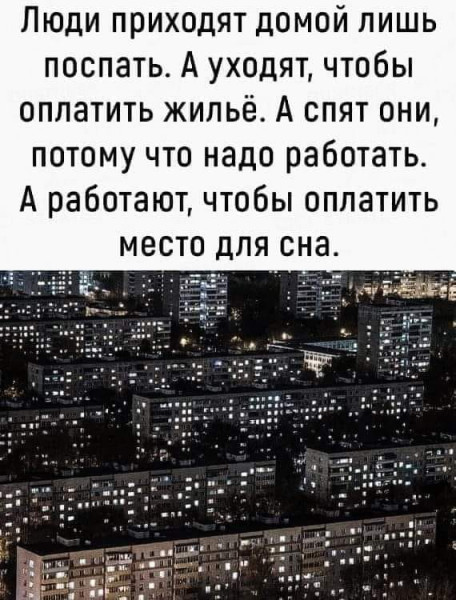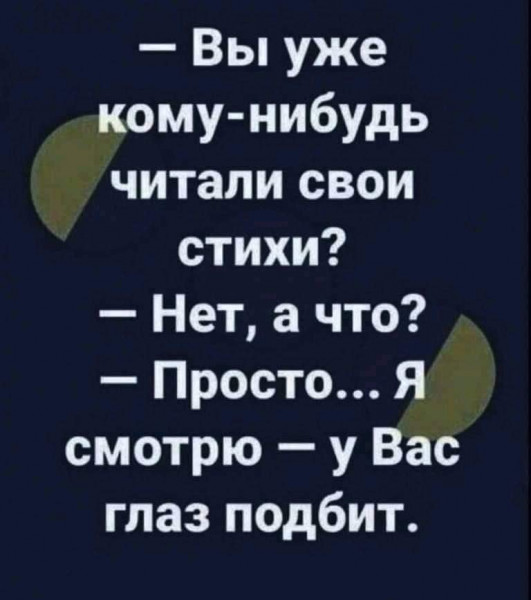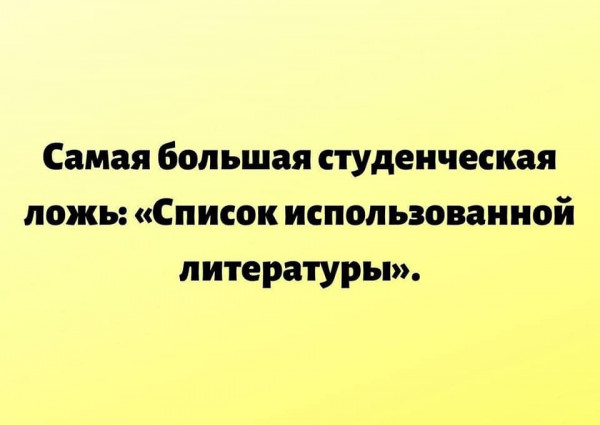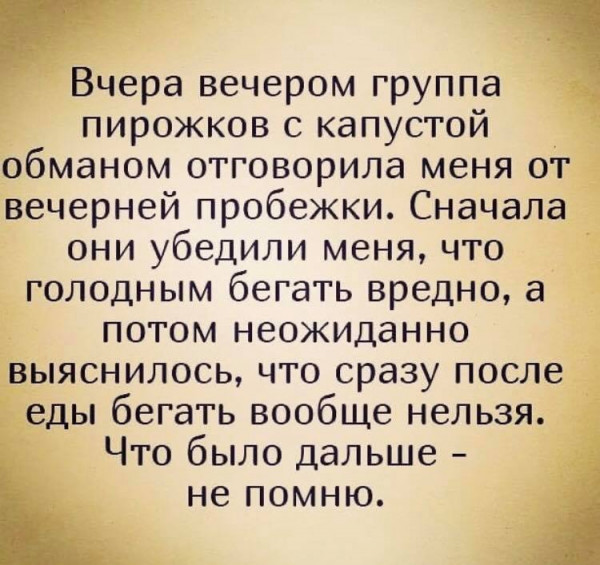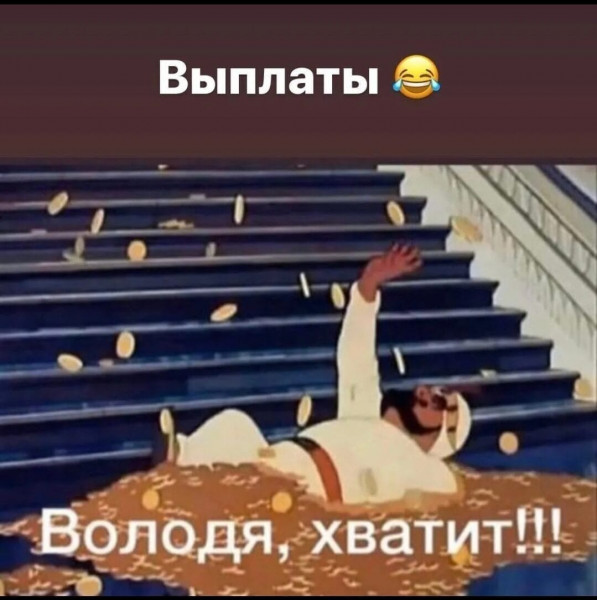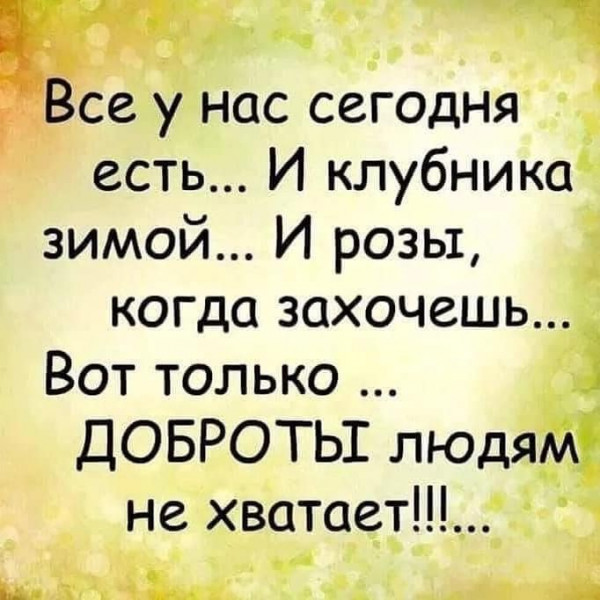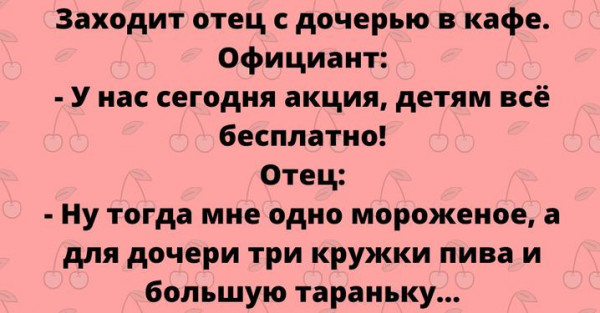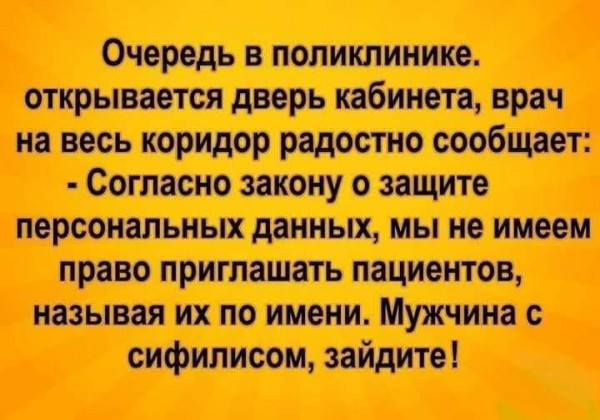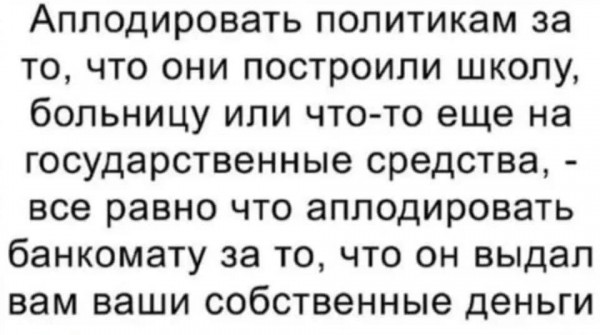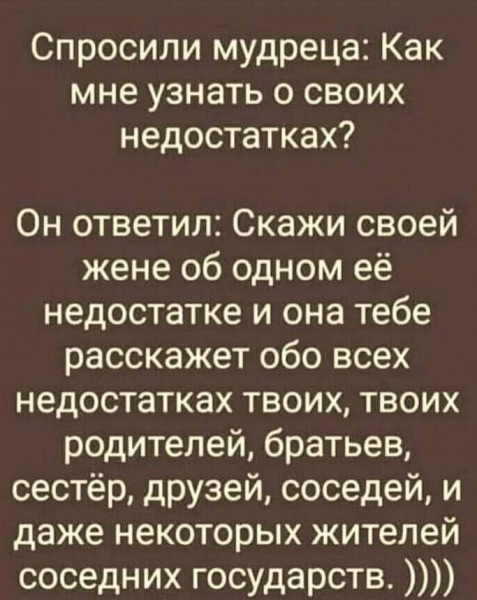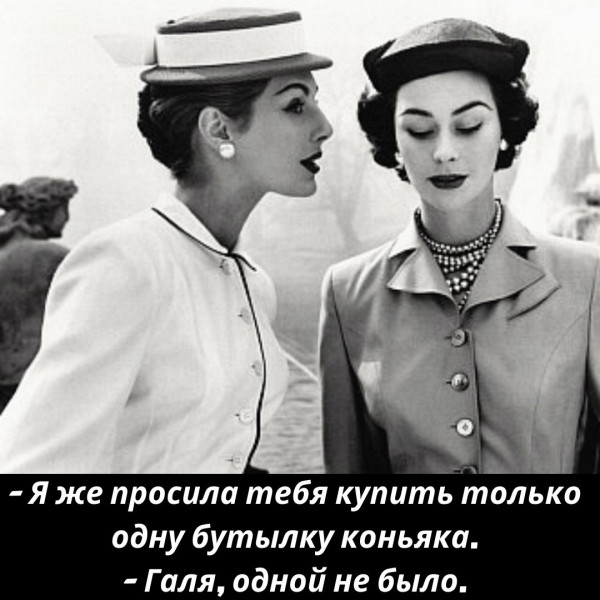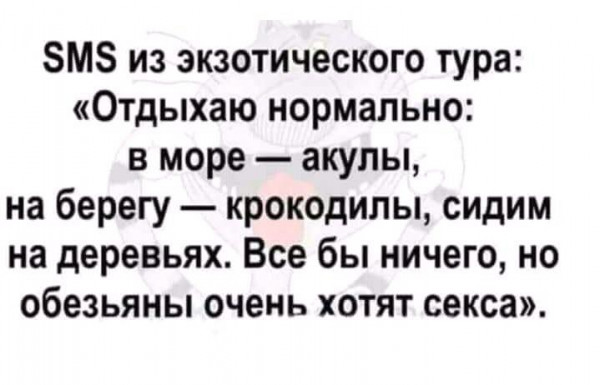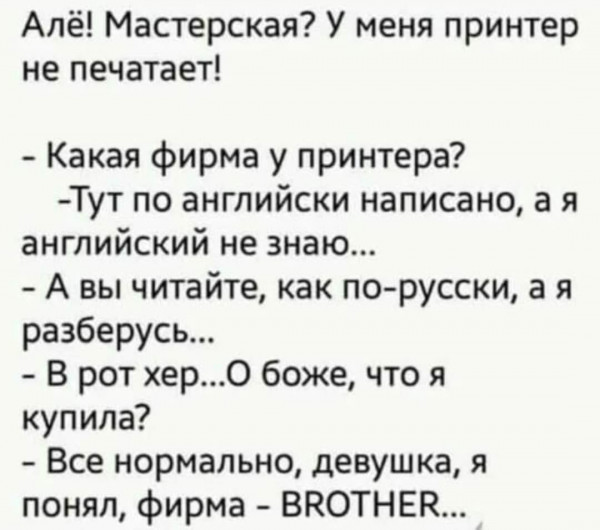Дело в том, что весь обслуживающий персонал этого ресторана, от повара до гардеробщика, при приеме на работу проходил обязательный экзамен «на вынос пьяного». Хозяин заведения Порфирий Филимонович лично устраивал проверку желающим у него «послужить», которую проходили далеко не все. Но если уж выпадало счастье получить у него работу, то платил хозяин щедро и относился с уважением. Испытание заключалось в том, что, обладавший недюжинной силой и весьма внушительной фигурой, Порфирий Филимонович не без удовольствия начинал «ходить колесом» по всей ресторации, сшибать мебель и для пущей убедительности выкрикивать, что он в свое время «и на медведя ходил». Задачей экзаменуемого было не испугаться и попытаться утихомирить разбуянившегося работодателя. Немногим молодцам удавалось унести ноги без особых увечий, а уж тем более справиться с «дебоширом».
Однажды в поисках места официанта попал на такую экзаменовку один юноша «щуплого студенческого вида». На него и время-то Филимоныч поначалу тратить не хотел, но тот настоял. Посмотрел внимательно новобранец, как хозяин «безобразничает», снял очки и на глазах у присутствующих за считанные секунды стянул с себя сюртук, продернул сквозь рукава шарф, выскочил навстречу Филимонычу, коротким мастерским ударом съездил ему по уху. А пока тот стоял, оглушенный и опешивший от неожиданности, стремительно натянул сюртук ему задом наперед и ловко примотал шарфом руки к туловищу. Затем, поразмыслив мгновение, «студент» так же быстро свернул из двух салфеток кляп и, не церемонясь, затолкал его в рот несчастному экзаменатору. После таких потрясений Порфирию Филимоновичу пару дней пришлось провести в постели, так как на поверку у него каким-то образом оказались сломаны два ребра. На «Аркашку-студента» обижаться не стал и работать к себе взял, а прежде выяснил, откуда тот «такой шустрый выискался». Оказалось, несколько лет до этого Аркадий Рыбин проработал санитаром в доме для умалишенных и вынужден был там справляться с более серьезными противниками, нежели Порфирий Филимонович.
В Японии часто случаются стихийные бедствия. И жители остаются без своих домов. Приходится жить в уцелевших школьных спортзалах, сборно-щитовых домах и т. д. Бывает, что и в палаточных городках. По заведенной традиции, в таких случаях глава местной администрации должен с женой временно переселиться в зону бедствия. И должен выбрать самое худшее место. (Если есть выбор между мотелем и палаткой, он должен перебраться в палатку). Туда же должен перебраться необходимый минимум чиновников.
И сидит бедолага японоаким с женой в палатке. В спальном мешке спят. Жена газовый баллон притащит, лапшу варит. Аким, сидя верхом на перевернутом ведре, совещания с МЧС проводит. А кругом красота: свежий воздух, океан.
И долго ему на ведре сидеть? До тех пор, пока не будет решен вопрос с последним пострадавшим. Сэнсэй покидает палаточный городок последним. Не раньше.
В Японии вопросы пострадавших решаются очень быстро. И дело не в какой-то японской эффективности. Просто в древности кто-то мудро решил на место бедствия посылать чиновника обязательно вместе с женой.
Потому, что сам чиновник, один, может долго в палатке жить: сакэ притащит, начнет шашлыки жарить, подруг подтянет, знатную рыбалку устроит. Сделает себе отпуск на природе. Это уж как принято. (Сам бы неделю-другую пожил бы в палатке у океана).
А вот жена не даст такого счастья. Она своего мужа с потрохами сожрет: надоело в палатке торчать, дети ждут, быстрей заканчивай дела, домой надо. И чиновник, вздыхая, быстро решает вопросы.
Очень мудрый человек жил в древности. Он знал, что посылать одного чиновника - бесполезно. Только с женой. Древний мудрец хорошо знал жизнь и людей.
Гомбо Цыденов
Приехали в Ялту на натурные съемки и встретились с глубоким стариком, который в молодости был лодочником и возил самого Чехова. Увидел он на съемочной площадке Баталова, заулыбался и говорит Хейфицу:
— Шляпа-то у него точно как у Чехова. А когда Баталов пошел, лодочник закричал радостно:
— И косолапит, как Антон Палыч!
Баталов ликовал.
Возникает тоска, накатывает чувство одиночества и бессмысленности существования, тягостное ощущение отсутствия внятных перспектив и нехватка сил. Мы как шарики, из которых вдруг выпустили воздух.
Чтобы заглушить эту боль, эту внутреннюю пустоту, возникает суета и новые порции информационного потребления — кино, сериалы, шоу, новостные ленты… Мы "заедаем" таким образом внутреннюю пустоту.
Только вот если человека, заедающего свой стресс фастфудом, легко заметить по весьма округлым формам, то информационное ожирение, которым мы страдаем все поголовно, заметить не так-то просто.
Реальные интересы людей свелись к весьма нехитрым потребностям — вкусно поесть, выпить, посмотреть что-нибудь весёленькое (или, наоборот, страшненькое), помечтать о чём-нибудь.
Поэтому, научитесь ощущать в себе собственное мышление и увидите ответы на свои самые главные вопросы.
Андрей Курпатов,
И вот Юлий Борисович Харитон, будучи очень ответственным человеком, с оттопыренными прозрачными ушками, в беретике, такой маленький-маленький, он пришел по месту прописки в Москве в военкомат. Он пришел, жмется – там здоровенный какой-то такой капитанище, который в этот момент по телефонной трубке болтает с возлюбленной, обсуждая, значит, ее коленки и задницу, и который при виде маленького Харитона в этом беретике сказал: ты погоди, сиди, дед, сиди.
Харитон подождал 10 минут, наконец снова сказал, что, вот, вы знаете, мне надо было бы узнать, в каком я звании и состою ли я на учете. Ему сказали: ну вам же сказали подождать, да? Харитон терпеливо ждет. Наконец прошло 40 минут, и капитан соблаговолил двинуть свою тушу туда в картотеку и в архив. А дальше, — Харитон рассказывает, — я услышал странные звуки. Я услышал, что что-то упало, потом я услышал топот.
Через несколько минут ко мне вышли перекошенные и белые начальник военкомата, совершенно белый капитан – у них у всех были приставлены к вискам руки. Они сообщили, что он находится в звании: «товарищ генерал!». Причем сам Харитон рассказывал это без особенных эмоций, поскольку значения таким мелочам не придавал.
Ю́лий Бори́сович Харито́н — советский физик-теоретик и физикохимик, д.ф.-м.н., академик АН СССР и РАН. Один из руководителей советского проекта атомной бомбы. Лауреат Ленинской и трёх Сталинских премий. Трижды Герой Социалистического Труда
На сходке было решено, что лучшие ученики из русских и поляков должны на экзаменах хотя бы по одному предмету схватить четверку, чтобы не получить золотой медали. Мы решили отдать все золотые медали евреям. Без этих медалей их не принимали в университет.
Мы поклялись сохранить это решение в тайне. К чести нашего класса, мы не проговорились об этом ни тогда, ни после, когда были уже студентами университета. Сейчас я нарушаю эту клятву, потому что почти никого из моих товарищей по гимназии не осталось в живых. Большинство из них погибло во время больших войн, пережитых моим поколением. Уцелело всего несколько человек.
Константин Паустовский
21.08.2021, Новые истории - основной выпуск
Почему Сталина уговорили выпустить за границу если не повара, то хотя бы его блюдо? А просто Генералиссимус попробовал однажды эти удивительные макароны и пришел в дикий восторг.
А поваром был учитель из Ялтинского кулинарного училища Борух Соломонович Канцеленбоген.
В "Макаронах по-флотски" было несколько прорывов в кулинарии и мировое поварское сообщество не могло этого не увидеть и не признать. И дело было, конечно, не в соединении белков (мяса) и углеводов (макарон) – такое уже встречалось на просторах мировой еды. А дело было в том, КАК Борух это делал и какие применял технологии.
Кстати, Сталин все же наградил Боруха. Вождь предложил Великому повару для жизни любой - на его выбор - город в СССР.
«Знаете, что, Иосиф Виссарионович, - ответил Борух, - уж если выпало в провинции родиться, так лучше жить в глухой провинции у моря». И Борух выбрал Ялту, где и получил квартиру на Графском проезде.
Это фраза про провинцию у моря стала известна много позже, когда ее озвучил будущий лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский. Бродский и Канцеленбоген познакомились в Ялте и Борух сказал тогда слова, поразившие Бродского – «Знавал я одного Иосифа, так он мне хотя бы квартиру здесь подарил, а ты кто такой? Да, я живу в провинции у моря, потому что мне выпало в империи родиться!»
Сталин также дал тогда команду включить рецепт «Макарон по-флотски» в книги по кулинарии, что и было сделано, но уже после его смерти – лишь в 1955 году.
С тех пор кто только не пытался испортить рецепт Боруха! И он предсказал! «Пройдет время, - говорил он даже не пытаясь скрыть слез, - и мой рецепт испоганят и переврут!»
Так и случилось. Борух мог предсказать будущее.
Чтобы этого не случалось впредь, передам этот рецепт так, как Борух рассказывал его одному из его учеников.
Итак, ингредиенты.
Говяжий фарш – 550 граммов.
Макароны – 450 граммов.
Репчатый лук – 350 граммов.
Мясо – самое лучшее, которое сможете найти на своем рынке – для себя ведь делаете? Неважно что - филей, спина, бедро, кострец.…Лишь бы без прожилок.
Макароны – только гофрированные. С помощью «гофры» - бороздок на теле макаронин – мясо словно прилипает к ним и создается тот самый волшебный эффект.
Воды для отваривания макарон должно быть в 6 раз больше по весу, чем самих макарон. То есть на 450 граммов – как минимум 2, 5 литра. Однажды Борух рассказал, как варил макароны в армии, где служил поваром. Ему нужно было накормить 1200 человек. Норма на одного человека была 100 граммов. Таким образом, емкость для варки должна была быть 720 литров. Борух нашел старую ванну, отмыл ее и на дровах сварил целую ванну макарон!
Многие утверждают, что варить макароны нужно на 2 минуты меньше, чем указано на пачке. Мол, таким образом, мы получаем чуть недоваренные макароны и это значительно полезнее, чем разваренные. Борух этого не любил. Так что варить макароны нужно без всяких там «альденте». Отварили, слили воду и сразу добавляем к ним 50 граммов сливочного масла.
Лук режем только пером. Жарим его на растительном масле в отдельной сковороде почти до коричневого цвета и затем добавляем к нему 50 граммов сливочного масла.
Запомните – 2 раза по 50 граммов. Казалось бы ерунда, но нет – повара всего мира в 1952 году стоя аплодировали Боруху за эти 2 кусочка сливочного масла. Уж они-то понимали в чем здесь дело…
Параллельно жарим фарш в отдельной сковороде. Деревянной лопаткой рыхлим его все время, наблюдаем, как из красного он становится розовым, потом серым…Что важно – никаких специй! Лишь в конце – соль и черный перец.
И финальный аккорд – соединяем все вместе и тщательно перемешиваем. Мясо должно пробраться внутрь макарон и облепить их со всех сторон.
Так и получается блюдо, которое поразило в свое время лучших поваров мира.
Уже после смерти Боруха я узнал, что в Римини на пляже, где снимался великий фильм Феллини «Восемь с половиной» находится ресторанчик с удивительным названием «БорухБар». И в меню там всего одно блюдо – Macaroni Navy Style, что в переводе означает «Макароны по-флотски». Хозяйка «БорухБара» уже немолодая женщина с очень толстыми ногами. Она часто выходит на берег Адриатического моря и долго и печально смотрит в даль. Нужно ли говорить, что имя её – Арабелла?
Михаил Дегтярь
21.08.2021, Новые истории - основной выпуск
Вещество талидомид было разработано в 50-х годах в Германии — компания Chemie Grünenthal искала новые способы получения антибиотиков и получила талидомид как побочный продукт. Испытания на животных показали, что никаких антибиотических свойств талидомид не имеет, как в общем-то и любых других медицинских свойств, но он также оказался абсолютно безвредным: даже в высоких дозах никаких побочных эффектов у животных замечено не было. Поскольку никаких побочных эффектов у нового лекарства не наблюдалось, Chemie Grünenthal просто разослала бесплатные образцы докторам в Западной Германии и Швейцарии.
Сперва его прописывали как противосудорожное средство, но вскоре выяснилось, что вещество работает как снотворное — пациенты, принимающие его, испытывали «глубокий, естественный сон». Хорошее снотворное, безопасное даже в больших дозах? В течение 4 лет, талидомид под разными марками стал продаваться в 46 странах и к началу 1961 года оно вышло на лидирующие позиции в ФРГ. Ни в одной из стран дополнительных исследований не проводилось. Его даже стали прописывать беременным женщинам в качестве лекарства от утренней тошноты, хотя никаких исследований о влиянии талидомида на развитие плода не проводилось. В это же время несколько врачей написали в компанию Chemie Grünenthal о развитии периферического неврита у пациентов, принимавших талидомид. Компания, конечно же, отрицала вину талидомида.
В сентябре 1960 года, компания Richardson-Merrell подала заявку в FDA на продажу талидомида под маркой Kevadon на территории США. На тот момент это лекарство свободно продавалось в десятках стран и компания была уверена, что они легко выйдут на новый рынок. Препарат должна была утвердить молодая доктор Фрэнсис О. Келси, которую наняли в FDA в начале года. Но несмотря на большое давление со стороны гиганта Richardson-Merrell и 6 повторных заявок, Фрэнсис отказалась выдать лицензию из-за недостаточных исследований побочных эффектов, а также потому что Richardson-Merrell умолчали о случаях периферического неврита у пациентов.
Через год, в ноябре 1961 года, из Германии и Австралии стали поступать сообщения о новорожденных с разнообразными врожденными пороками развития. Сотни детей рождались без конечностей. Позже выяснилось, что талидомид проникает через плацентарный барьер и останавливает рост новых сосудов, что в свою очередь приводит к нарушениям при развитии конечностей у плода. Даже одной таблетки талидомида, принятой на 4-й или 5-й неделях беременности, было достаточно, чтобы вызвать нарушение развития плода.
По оценкам, из-за талидомида у около 40 000 пациентов развился периферический неврит и около 12 000 новорожденных имели врожденные пороки слабо совместимые с жизнью (только 5000 из них пережили детство).
Эти числа могли бы быть намного выше, если бы не молодая доктор Келси, которая не побоялась отстаивать своё мнение, несмотря на давление большой компании и на популярность медикамента во всем мире.
Тут же вспоминаются Клэр Паттерсон, который 20 лет боролся против добавки тетраэтилсвинца в топливо и спас нас всех от отравления свинцом, и Игнац Земмельвейс, который всю жизнь боролся за дезинфекцию рук перед операциями и принятием родов, что в итоге сократило смертность в десятки раз.
Так что не бойтесь отстаивать своем мнение, даже если весь мир против вас.
24.08.2021, Новые истории - основной выпуск
Это он придумал голову профессора Доуэля, летающего человека Ариэля, Ихтиандра...
Он придумал, потому что не сдавался. Хотя вся жизнь его — типичное проявление того, что называют "родовым проклятием" в народе. А как на самом деле это называется — никто не знает.
В детстве Александр Беляев потерял сначала сестру — она умерла от саркомы. Потом утонул его брат. Потом умер отец, и Саше пришлось самому зарабатывать на жизнь — он еще был подростком. А еще в детстве он повредил глаз, что потом привело почти к утрате зрения. Но именно в детстве он сам выучился играть на скрипке и на пианино. Начал писать, сочинять, играть в театре. Потом, в юности, сам Станиславский приглашал его в свою труппу — но он отказался.
Может быть, из–за семьи отказался. Кто знает? Он как раз женился в первый раз. Через два месяца жена его оставила, ушла к другому. Прошло время, рана затянулась и он снова женился на милой девушке. И одновременно заболел костным туберкулезом. Это был почти приговор. Беляева заковали полностью в гипс, как мумию — на три года. Три года в гипсе надо было лежать в постели. Жена ушла, сказав, что она ухаживать за развалиной не собирается, не для этого она замуж выходила. И Беляев лежал, весь закованный в гипс. Вот тогда он и придумал голову профессора Доуэля — когда муха села ему на лицо и стала ползать. А он не мог пальцем пошевелить, чтобы ее прогнать... Но этот ужасный случай побудил Беляева написать роман. Потом, когда он все же встал на ноги, стал ходить в целлулоидном корсете. Полуслепой и некрасивый. А был красавец в молодости...
Он писал и писал свои знаменитые романы Фантазия его не иссякала, добро побеждало зло, люди выходили за пределы возможностей, летали на другие планеты, изобретали спасительные технологии, любили и верили. Хотя немного грустно он писал. Совсем немного. Если вспомнить, в каком он был состоянии...
Он женился потом на хорошей женщине. И две дочери родились. Одна умерла от менингита, вторая — тоже заболела туберкулезом. А потом в Царское Село пришли фашисты — началась оккупация. Беляев не мог воевать — он почти не ходил. И уехать не смог. Он умер полупарализованный, от голода и холода. А жену и дочь фашисты угнали в Германию. Они даже не знали, где похоронен Александр Романович.
Потом жене передали все, что осталось от ее мужа — очки. Больше ничего не осталось. Романы, повести, рассказы. И очки. К дужке которых была прикреплена свернутая бумажка, записка. Там были слова, которые умирающий писатель написал для своей жены: "Не ищи меня на земле. Здесь от меня ничего не осталось. Твой Ариэль"...
Анна Кирьянова
24.08.2021, Новые истории - основной выпуск
В 28 лет Сергей Гриньков со своей партнёршей по фигурному катанию, Екатериной Гордеевой успел выиграть два Олимпийских золота. В 28 лет Сергей Гриньков умер прямо на льду…
Жизнь Сергея Гринькова – это история любви. К сожалению, это печальная история любви, которую нам от первого лица рассказывали сами герои этой истории. Прямо с экранов телевизоров.
Родившись 4 февраля 1967 года, Сергей Гриньков, сам того не зная, до 1981 года шёл по жизни рядом с девочкой на четыре года младше, жившей в одном из соседних домов.
Они ходили в одну и ту же общеобразовательную школу – номер 704, но знакомы не были – для этого была слишком велика разница в возрасте. Они ходили в одну и ту же секцию по фигурному катанию, но также не пересекались.
Сергей с пяти лет, как и Катя с трёх, пытался построить сольную карьеру. К 1981 году стало понятно, что у ребят для одиночного катания прыжки недостаточно высоки. Их представили друг другу – так и произошло их первое знакомство, ставшее для обоих, как и для всего мира, судьбоносным.
Ей было всего 10 лет, ему – 14, и тогда они еще не знали, что судьба свяжет их навсегда не только в спортивном плане.
Заметив потенциал молодых спортсменов, их пригласил к себе самый именитый на тот момент тренер, Станислав Жук. Именно под его руководством в 1986 году пара впервые завоевала звание чемпионов мира. Юной Кате было всего 14 лет – рекордный тогда возраст за всю историю мировых первенств по фигурному катанию. В том же году они стали вторыми на чемпионате Европы и завоевали серебро на чемпионате СССР.
Всего год спустя, в 1987 году, перейдя к новому тренеру, Станиславу Леоновичу, пара выиграла все крупные соревнования, в которых принимала участие: чемпионат мира, первенство Европы и чемпионат СССР, а значит к Олимпийским играм 1988 года Гриньков и Гордеева подходили в статусе главных фаворитов.
В 1988 году Сергею был 21 год, Кате только исполнилось 17, но уже было заметно, что ребят скрепляют далеко не одни только партнёрские, спортивные интересы.
Возможно, именно такая духовная близость и помогала им идти вперёд, выигрывать все соревнования, включая и Олимпийские игры, которые покорились им с удивительной легкостью. Интересно, что произвольный танец, вошедший в историю фигурного катания, как настоящий шедевр, был исполнен под «Марш Мендельсона».
Год спустя у пары родилась дочь, Дарья. В это время они много выступали на зарубежных турнирах, принимали участие в большом количестве коммерческих проектов. За искренность и идеальную технику, а также за ту огромную любовь друг к другу, в США и Канаде их полюбили и прозвали G&G – по первым буквам фамилий.
Похожие прозвища американцы дают исключительно звёздам кино и эстрады. Вновь, но уже в другой обстановке, законные муж и жена, Сергей и Екатерина, услышали этот отрывок через три года, 20 апреля 1991 года на собственной свадьбе. К тому моменту они не только успели стать четырёхкратными чемпионами мира, но и завершить свою любительскую карьеру, перейдя в театр Татьяны Тарасовой, где можно было не только заниматься любимым делом, но и получать за это неплохие деньги, что в начале 90-х в нашей стране было очень важно. Ради заработка было решено даже пропустить Олимпиаду-92. Ещё год спустя, в 1993 году, в Международном олимпийском комитете, видимо, поняли, какую огромную долю рынка они теряют, категорически запрещая парам, ушедшим в профессионалы, принимать участие в Олимпиадах, и слегка смягчили свой устав, позволив желающим вернуться и поучаствовать в переходных играх 1994 года. Гриньков и Гордеева воспользовались этой возможностью. Вернув статус любителей, Сергей и Екатерина повторили свой успех 1987 года, выиграли чемпионаты страны, Европы и мира, но в этот раз, к своей россыпи золотых медалей, они добавили ещё и награду высшей пробы с пятью Олимпийскими кольцами на ней. После этого триумфа пара вернулась в профессиональный спорт, уступив дорогу к олимпийским свершениям молодым. Но ненадолго… 20 ноября 1995 года Сергей Гриньков во время тренировки в Лейк-Плэсиде получил обширный инфаркт и скончался прямо на льду, во время тренировки.
Попрощаться с Сергеем Гриньковым пришли тысячи москвичей. Многие не скрывали слез, не могли поверить, что у сказки о двух безумно влюбленных друг в друга людях может быть такой трагический финал. На хрупкие плечи Кати легли все заботы о семье, дочке, доме. Почти все приходилось делать самой. Ее поддерживали друзья из шоу «Звезды на льду» — Кристина Ямагучи, Катарина Витт, Виктор Петренко, Оксана Баюл, решившие посвятить одно из своих выступлений памяти Сергея Гринькова.
Катя по задумке организаторов должна была присутствовать на этом представлении в качестве зрителя. Но она решила, что будет сама танцевать... Одна, без Сергея, но для него...
«Я начала волноваться, что потеряюсь на катке, что я такая маленькая и меня никто не увидит. Но заиграла музыка, включился свет, и все мучения вдруг прошли.
Прислушиваясь к своим ногам, прислушиваясь к Сергею, я почувствовала двойную энергию. Я точно знаю, что никогда не смогу так станцевать вновь», — рассказывала Гордеева о своем возвращении на лед. Впервые выйдя на ледовую арену одна, фигуристка стала участвовать в соревнованиях профессионалов и танцевать в шоу «Звезды на льду». Это помогало оправиться от потери. Да и дочка Дашенька стала подрастать, а вместе с ней стали расти и заботы о ней. «Да, я танцую за деньги, — говорит Екатерина. — Ведь фигурное катание — это тоже профессия. И я зарабатываю этим себе и своему ребенку на жизнь»....
Через год после смерти Сергея в Америке вышла книга «Мой Сергей. История любви» на английском языке. Эпиграфом к ней стали строчки из стихов Анны Ахматовой «Я улыбаться перестала…»
Я улыбаться перестала,
Морозный ветер губы студит,
Одной надеждой меньше стало,
Одною песней больше будет.
И эту песню я невольно
Отдам на смех и поруганье,
Затем, что нестерпимо больно
Душе любовное молчанье.
24.08.2021, Новые истории - основной выпуск
Римская армия, в свою очередь, состояла из легионов, легионы из когорт, когорты из центурий, центурии из манипул. Отсюда и понятие "манипулировать". Легион состоял из 5 когорт, когорта из 10 центурий, центурия из 10 манипул, манипула из 10 легионеров.
Исходя из этого, можно рассчитать численный состав легиона - это 5.000 воинов. Воины внутри легиона разделялись на новичков, обученных, опытных, ветеранов и элиту.
Новички составляли обычно первую когорту, во второй когорте сражались воины, побывавшие в сражении, в третьей когорте сражались воины, побывавшие в нескольких сражениях, в четвёртой когорте сражались воины, за плечами которых целые кампании. И, наконец, пятая когорта или, по-другому, "непобедимая когорта" или "последняя тысяча".
Эта когорта состояла из самых опытных воинов, воинов, за плечами которых были не только компании, а целые войны, и вступала в бой эта когорта в самый решающий момент схватки и именно она решала исход сражения.
Эта когорта никогда не отступала без приказа - она побеждала противника или погибала! Потому она и называлась "непобедимой", т.к. её нельзя было победить. Её можно было только уничтожить.
А уничтожив последнюю когорту легиона - противник уничтожал весь легион, т.к. основной костяк легиона - это именно те воины, которые и были хранителями орла легиона. Так вот, именно воины последней когорты легиона и назывались в древнем Риме интеллигентами.
Почему же эти воины назывались интеллигентами, т.е. "понимающими"?
А очень просто. Этим людям не надо было ничего объяснять, они сами всё знали и понимали, что им делать, и когда делать. Им не надо было объяснять как построиться черепахой; им не надо было объяснять когда поднимать щит, а когда нет; им не надо объяснять, как разомкнуть строй и, как его сомкнуть, им не надо объяснять когда им надо достать гладий, а когда работать пилумом.
Эти воины сами всё знали, всё понимали, и именно поэтому их называли понимающими, т.е. интеллигентами.
И именно в этих воинах была сокрушающая мощь Рима. Из этих воинов набиралась преторианская гвардия и когорты сената. Быть интеллигентом, то есть, воином последней когорты, считали за честь для себя патриции, сенаторы, трибуны, цензоры, преторы и т.д.
То есть, быть воином последней когорты - значит быть профессионалом в военном деле высочайшего класса, быть достойным плечом к плечу сражаться рядом с лучшими людьми Рима и это значит быть самому - представителем лучших людей Рима.
Интеллигенция - это становой хребет Римской Империи. Интеллигенция - это скелет римского общества. Интеллигенция - это то, на чём стоял Рим.
Алла Захарова
Лет пять-шесть назад, рассматривая работы Эль Греко я обратил внимание на этот портрет и захотел узнать, кто же этот молодой мужчина.
Им оказался ученик Эль Греко, художник, монах-доминиканец тринитарий.
Что это за тринитарий такой?
Стал рыть дальше и оказалось, что это католический нищенствующий монашеский орден, основанный в 1198 году для выкупа христиан из мусульманского плена. Девизом ордена стала фраза Gloria Tibi Trinitas et captivis libertas (Слава Тебе Троица, а пленным — свобода).
Этих монахов народ прозвал "братьями ослов" или "ослиным орденом", поскольку им было запрещено ездить на лошадях (видели, конечно, изображения монаха на осле). Тринитариям запрещалось вкушать мясо и рыбу и владеть какой-либо собственностью. Выполняя свою основную задачу, за 437 лет орден выкупил из мусульманского плена 30732 (!) невольника. Средства для выкупа тринитарии, главным образом, добывали сбором милостыни. Нередки были случаи, когда тринитарии отдавали себя самих (!) в рабство за освобождение пленников.
И вот самое интересное: в 1580 году они выкупили из алжирского плена Сервантеса, после чего тот вернулся в Испанию и написал "Дон Кихот". Получается, что читая "Дон Кихот" мы обязаны этим монахам-тринитариям.
Вот такая ниточка протянулась от Эль Греко к Сервантесу.
Геннадий Вольман
30.08.2021, Новые истории - основной выпуск
...А позже, когда снимали «Слезы капали» в Ростове-Ярославском, я в гостинице, у себя в номере, вдруг услышал, что кто-то поет в ресторане французские песни. Спустился. Стояла поздняя осень. Народу в ресторане было мало. На сцене с микрофоном в руке стоял Брондуков и пел песню из репертуара Ива Монтана. И это был уже не доходяга и алкаш Федул, а элегантный, пластичный и обворожительный французский шансонье. Жаль, что эта грань его таланта так и осталась нераскрытой».
30.08.2021, Новые истории - основной выпуск
«Опята?», думаю про себя. «Ну, может, они бывают какие-то галлюциногенные». За качеством моего перевода по телефону следит ещё один переводчик для пущей объективности и чтобы помогать, если я не знаю перевод какого-то слова.
«Переводчик, а как будет «опята»?», спрашиваю я. «Opiates», отвечает она, и тут я понимаю, что никакие это были не грибы…
01.09.2021, Новые истории - основной выпуск
Она родилась в 1908 г. в Гатчине, а спустя 10 лет вместе с родителями уехала в Финляндию, а затем и во Францию, которая стала ее вторым домом. В Париже Ксению отдали в женский католический интернат при монастыре, где она проучилась до 16 лет. Семья Александра Куприна в эмиграции жила бедно: редкие гонорары, непостоянные заработки, постоянные долги. И тут Ксения получает возможность поправить материальное положение семьи — благодаря эффектной внешности, она устраивается манекенщицей в Дом моды Поля Пуаре.
А в 1926 году она знакомится с кинорежиссёром Марселем Л’Эрбье и получает свою первую роль в фильме «Дьявол в сердце». 18-летняя Ксения становится популярной актрисой, известной как Kissa (ударение на последнем слоге) Kouprine. Киса — её домашнее прозвище с детства.
Партнерами Кисы по съемочной площадке становились самые известные французские актеры, такие как Жан Маре и Жан Габен. Ее друзьями были Антуан де Сент-Экзюпери и Эдит Пиаф, которая специально для нее напела пластинку. Вскоре она стала настолько известной, что ее слава затмила популярность отца. Однажды один из русских эмигрантов, который, как и многие его соотечественники, во Франции работал таксистом, услышал в разговоре пассажиров знакомую фамилию и оживился: «Вы не отец ли знаменитой Кисы Куприной?» Дома писатель пожаловался жене: «До чего дожил... Стал всего лишь отцом „знаменитой дочери“». Но на самом деле писатель очень гордился успехами дочери и посылал ей шутливые записки: «Моей Красавице. Александр Куприн, ценитель изящного. Ах! Нет другого мнения: всех краше в мире Ксения: твердят кинематографы и разные фотографы, а также господин Куприн».
У Ксении было много поклонников, однажды к ней даже посватался один богатый английский аристократ, но она ему отказала. «Мне он не понравился с самого начала. Он был слишком чопорным. И плюс к этому — длинный нос! А я, конечно, была легкомысленной девчонкой, мне казалось тогда, что весь мир у моих ног! Но чтобы он утешился, я познакомила его с моей подругой из Брюсселя. Вскоре они поженились и уехали в Англию. После войны я узнала, что бедняжки оба погибли в его лондонском доме, во время бомбежки. Вот такая судьба», — позже рассказывала Ксения.
Тем временем ее отец так и не смог найти своего места среди писателей-эмигрантов. Сама Ксения впоследствии вспоминала, сколь разительным был контраст между жизнью, которую она вела, и существованием ее родителей. Однажды, ожидая авто с очередным любовником, она увидела беспомощного, худенького, почти слепого отца, который, обращаясь в пустоту, просил помочь ему перейти дорогу. Какие-то девушки, рассказывала Киса, смеялись: „Смотри, какой старичок боится перейти дорогу!“ Папа плохо видел. И кроме того, был подшофе. Мне было неловко подойти к нему сразу, и я подождала, пока девушки уйдут»... Другим, стыдясь, рассказывала, что все-таки так не подошла к отцу, оставила его у перекрестка.
Куприн все чаще ностальгировал по родине и мечтал вернуться. Поэтому вместе с женой они приняли решение добиться разрешения на въезд в СССР. Им разрешили вернуться в 1937-м. Ксения с родителями не поехала. «Учтите, мне не было еще и тридцати, — оправдывалась потом. — Будущее казалось лучезарным! А теперь я вижу, что все те годы прожила бесплодно»...
Свою роль сыграло и то, что в то время у Ксении был роман с французским летчиком. «Я растерялась, — рассказывала Ксения Александровна. — Я не могла и не хотела бросить любимого человека и боялась остаться в чужой стране без родителей. Очень беспокоилась и о них. Как они будут жить одни? Кто позаботится о них? Никого из родственников в России уже не осталось, здоровье отца ухудшалось. Было море слез и упреков со стороны родителей, но после тяжелых раздумий я твердо заявила, что остаюсь с любимым».
В 1938 г. Куприн умер от рака пищевода. В 1942-м в блокадном Ленинграде покончила с собой мать, получив ложное сообщение, что дочь арестована гестапо. О ее судьбе Ксения узнала лишь после войны. В конце 1950-х гг. она решила отправиться в СССР. Замуж во Франции она так и не вышла — ее жених погиб в автокатастрофе, а ностальгия по родине и желание посетить могилы родителей становились все сильней. Она оставила квартиру на Елисейских полях, взяла с собой архив отца и отправилась в неизвестность.
На родине ее приняли равнодушно. Долгое время она жила в гостинице, пока ей наконец не дали однокомнатную квартиру. Никаких отчислений за публикации книг отца она не получала. Не могла она и устроиться в театр, а когда это все-таки удалось, ей давали роли только в массовке. Она издала книгу об отце «Мой отец — Куприн», публиковала статьи о литературе, но на это мало кто обращал внимание. В последние годы она жила замкнуто, в полном одиночестве. В декабре 1981 г. Ксения Александровна Куприна скончалась от рака мозга.
04.09.2021, Новые истории - основной выпуск
07.09.2021, Новые истории - основной выпуск
Дочь француза и испанки — преподавателей Парижского университета Сорбонна, Вера Лотар училась в Париже у Альфреда Корто, затем в Венской академии музыки. В 12 лет дебютировала с оркестром под руководством великого Артуро Тосканини.
Будучи уже известной пианисткой, дававшей сольные концерты во многих странах мира, вышла замуж за советского инженера Владимира Шевченко и в 1937 году приехала с ним в СССР.. Вскоре Владимир Шевченко был арестован. Вера кинулась в НКВД и стала кричать, путая русские слова и французские, что муж ее — замечательный честный человек, патриот, а если они этого не понимают, то они — дураки, идиоты, фашисты и берите тогда и меня… Они и взяли. И будет Вера Лотар-Шевченко тринадцать лет валить лес. Узнает о смерти мужа в лагере и двух детей в блокадном Ленинграде.
Освободилась в Нижнем Тагиле. И прямо с вокзала в драной лагерной телогрейке из последних сил бежала поздним вечером в музыкальную школу, дико стучала в двери, умоляя о «разрешении подойти к роялю»… чтобы… чтобы «играть концерт»…
Ей разрешили. У закрытой двери, не смея зайти, рыдали навзрыд педагоги. Было же понятно, откуда она прибежала в драной телогрейке. Играла почти всю ночь. И заснула за инструментом. Потом, смеясь, рассказывала: «А проснулась я уже преподавателем той школы». Последние шестнадцать лет своей жизни Вера Лотар-Шевченко жила в Академгородке под Новосибирском.
Она не просто восстановится после лагеря как музыкант, но и начнет активную гастрольную деятельность. На ее концерты билеты в первый ряд не продавали. Места здесь предназначались для тех, с кем разделила она страшные лагерные годы. Пришел — значит, жив.
Пальцы у Веры Августовны до конца жизни были красные, корявые, узловатые, гнутые, изуродованные артритом. И еще — неправильно сросшиеся после того, как их на допросах переломал («не спеша, смакуя каждый удар, рукоятью пистолета») старший следователь, капитан Алтухов. Фамилию эту она помнила потом всю жизнь и никогда его не простила...
Вера Лотар-Шевченко скончалась в 1982 году в Новосибирском Академгородке. На её могиле выбита её собственная фраза: «Жизнь, в которой есть Бах, благословенна.»
08.09.2021, Новые истории - основной выпуск
Поскольку я очень быстро и наглядно выяснил, что если преподаватели научного центра в той или иной мере говорят по-английски (хотя один из них читал нам лекцию на родном болгарском, уверяя всех, что это русский; мы его прикрыли и не сдали), то обслуживающий персонал общежития имеет о языке великого Шекспира самое смутное представление, изучение некоторых основ турецкого было жизненной необходимостью. Но поскольку в моем распоряжении был только маленький русско-турецкий разговорник и купленный на стамбульском книжном развале учебник турецкого языка на турецком же и написанный, в моих познаниях были существенные пробелы.
Как-то в выходной нас вывезли на теплоходную экскурсию по Босфору. Она была длинной, утомительной, под конец всем уже хотелось дойти поскорее до конечного пункта назначения на причале Кадикёй, где нас ждала машина от центра. И желание это было столь велико, что когда теплоход причалил к причалу Ускюдар за одну остановку от Кадикёя, бОльшая часть группы решила, что мы уже добрались и надо выходить. Я следил за остановками и был уверен, что выходить ещё рано, но переспорить аксакалов группы было сложно. Ситуацию усугубляло то, что из-за интенсивного движения мы пришвартовались даже не к причалу, а к стоявшему возле него теплоходу, который полностью закрывал вид на название причала.
Я мобилизовал свои познания в турецком, но вдруг с ужасом понял, что не знаю, как будет "Здесь - там", а мне почему-то казалось, что их обязательно нужно употребить в вопросе. Но ситуация переходила в критическую, часть группы уже сошла с теплохода. Вспоминать турецкие указательные местоимения было некогда и я придумал их на ходу, с грозным видом спросив у щуплого турецкого матроса, следившего за выходом пассажиров:
- УСКЮДАР Ы? - и показал рукой под ноги
- Ускюдар, Ускюдар, - радостно ответил матрос.
- КАДИКЁЙ У? - и махнул рукой вдаль.
- Кадикёй, Кадикёй, - так же радостно ответил матрос.
Теперь ситуация стала очевидной для всех, поднялся крик: "Назад, все назад, мы на следующей выходим!", и почти вся группа (кроме двух человек) успела заскочить на уже начавший отходить теплоход.
До конца нашего пребывания в Турции вся группа оставалась в святой убежденности, что по-турецки "здесь" - "ы", а "там" - "у" и восхищалась краткостью и выразительностью языка.
Профессор Дмитрий Сергеевич Лихачев оставил воспоминания о блокаде, которые до сих пор нельзя читать без душевной дрожи.
Женщина (Зина ее знала) забирала к себе в комнату детей умерших путиловских рабочих (я писал уже, что дети часто умирали позднее родителей, так как родители отдавали им свой хлеб), получала на них карточки, но... не кормила. Детей она запирала. Обессиленные дети не могли встать с постелей; они лежали тихо и тихо умирали. Трупы их оставались тут же до начала следующего месяца, пока можно было на них получать еще карточки. Весной эта женщина уехала в Архангельск. Это была тоже форма людоедства, но людоедства самого страшного.
Эту ледовую дорогу называли дорогой смерти (а вовсе не «дорогой жизни», как сусально назвали ее наши писатели впоследствии). Машины часто проваливались в полыньи (ведь ехали ночью). Рассказывали, что одна мать сошла с ума: она ехала во второй машине, а в первой ехали ее дети, и эта первая машина на ее глазах провалилась под лед. Ее машина быстро объехала полынью, где дети корчились под водой, и помчалась дальше, не останавливаясь. Сколько людей умерло от истощения, было убито, провалилось под лед, замерзло или пропало без вести на этой дороге! Один Бог ведает! У А. Н. Лозановой (фольклористки) погиб на этой дороге муж. Она везла его на детских саночках, так как он уже не мог ходить. По ту сторону Ладоги она оставила его на саночках вместе с чемоданами и пошла получать хлеб. Когда она вернулась с хлебом, ни саней, ни мужа, ни чемоданов не было. Людей грабили, отнимали чемоданы у истощенных, а самих их спускали под лед. Грабежей было очень много. На каждом шагу подлость и благородство, самопожертвование и крайний эгоизм, воровство и честность.
Самое страшное было постепенное увольнение сотрудников. По приказу Президиума по подсказке нашего директора — П. И. Лебедева-Полянского, жившего в Москве и совсем не представлявшего, что делается в Ленинграде, происходило «сокращение штатов». Каждую неделю вывешивались приказы об увольнении. Увольнение было страшно, оно было равносильно смертному приговору: увольняемый лишался карточек, поступить на работу было нельзя. На уволенных карточек не давали. Вымерли все этнографы. Сильно пострадали библиотекари, умерло много математиков — молодых и талантливых. Но зоологи сохранились: многие умели охотиться.
Директор Пушкинского Дома не спускался вниз. Его семья эвакуировалась, он переехал жить в Институт и то и дело требовал к себе в кабинет то тарелку супа, то порцию каши. В конце концов он захворал желудком, расспрашивал у меня о признаках язвы и попросил вызвать доктора. Доктор пришел из университетской поликлиники, вошел в комнату, где он лежал с раздутым животом, потянул носом отвратительный воздух в комнате и поморщился; уходя, доктор возмущался и бранился: голодающий врач был вызван к пережравшемуся директору!
Зимой, мыши вымерли с голоду. В мороз, утром в тишине, когда мы уже по большей части лежали в своих постелях, мы слышали, как умиравшая мышь конвульсивно скакала где-то у окна и потом подыхала: ни одной крошки не могла она найти в нашей комнате.
В этой столовой кормили по специальным карточкам. Многие сотрудники карточек не получали и приходили... лизать тарелки.
А между тем из Ленинграда ускоренно вывозилось продовольствие и не делалось никаких попыток его рассредоточить, как это сделали англичане в Лондоне. Немцы готовились к блокаде города, а мы — к его сдаче немцам. Эвакуация продовольствия из Ленинграда прекратилась только тогда, когда немцы перерезали все железные дороги; это было в конце августа. Ленинград готовили к сдаче и по-другому: жгли архивы. По улицам летал пепел.
Город между тем наполнялся людьми: в него бежали жители пригородов, бежали крестьяне. Ленинград был окружен кольцом из крестьянских телег. Их не пускали в Ленинград. Крестьяне стояли таборами со скотом, плачущими детьми, начинавшими мерзнуть в холодные ночи. Первое время к ним ездили из Ленинграда за молоком и мясом: скот резали. К концу 1941 г. все эти крестьянские обозы вымерзли. Вымерзли и те беженцы, которых рассовали по школам и другим общественным зданиям. Помню одно такое переполненное людьми здание на Лиговке. Наверное, сейчас никто из работающих в нем не знает, сколько людей погибло здесь. Наконец, в первую очередь вымирали и те, которые подвергались «внутренней эвакуации» из южных районов города: они тоже были без вещей, без запасов. Голодали те, кто не мог получать карточек: бежавшие из пригородов и других городов. Они-то и умирали первыми, они жили вповалку на полу вокзалов и школ. Итак, один с двумя карточками, другие без карточек. Этих беженцев без карточек было неисчислимое количество, но и людей с несколькими карточками было немало.
Были, действительно, отданы приказы об эвакуации детей. Набирали женщин, которые должны были сопровождать детей. Так как выезд из города по личной инициативе был запрещен, то к детским эшелонам пристраивались все, кто хотел бежать... Позднее мы узнали, что множество детей было отправлено под Новгород — навстречу немцам. Рассказывали, как в Любани сопровождавшие «дамы», похватав своих собственных детей, бежали, покинув детей чужих. Дети бродили голодные, плакали. Маленькие дети не могли назвать своих фамилий, когда их кое-как собрали, и навеки потеряли родителей.
Некоторые голодающие буквально приползали к столовой, других втаскивали по лестнице на второй этаж, где помещалась столовая, так как они сами подняться уже не могли. Третьи не могли закрыть рта, и из открытого рта у них сбегала слюна на одежду.
В регистратуре лежало на полу несколько человек, подобранных на улице. Им ставили на руки и на ноги грелки. А между тем их попросту надо было накормить, но накормить было нечем. Я спросил: что же с ними будет дальше? Мне ответили: «Они умрут». — «Но разве нельзя отвезти их в больницу?» — «Не на чем, да и кормить их там все равно нечем. Кормить же их нужно много, так как у них сильная степень истощения». Санитарки стаскивали трупы умерших в подвал. Помню — один был еще совсем молодой. Лицо у него был черное: лица голодающих сильно темнели. Санитарка мне объяснила, что стаскивать трупы вниз надо, пока они еще теплые.
Когда труп похолодеет, выползают вши.
Уже в июле началась запись в добровольцы. /…/. А Л. А. Плоткин, записывавший всех, добился своего освобождения по состоянию здоровья и зимой бежал из Ленинграда на самолете, зачислив за несколько часов до своего выезда в штат Института свою «хорошую знакомую» — преподавательницу английского языка и устроив ее также в свой самолет по броне Института. Нас, «белобилетчиков», зачислили в институтские отряды самообороны, раздали нам охотничьи двустволки и заставили обучаться строю перед Историческим факультетом. Вскоре и обучение прекратилось: люди уставали, не приходили на занятия и начинали умирать «необученными».
Помню, как к нам пришли два спекулянта. Я лежал, дети тоже. В комнате было темно. Она освещалась электрическими батарейками с лампочками от карманного фонаря. Два молодых человека вошли и быстрой скороговоркой стали спрашивать: «Баккара, готовальни, фотоаппараты есть?» Спрашивали и еще что-то. В конце концов что-то у нас купили. Это было уже в феврале или марте. Они были страшны, как могильные черви. Мы еще шевелились в нашем темном склепе, а они уже приготовились нас жрать.
Развилось и своеобразное блокадное воровство. Мальчишки, особенно страдавшие от голода (подросткам нужно больше пищи), бросались на хлеб и сразу начинали его есть. Они не пытались убежать: только бы съесть побольше, пока не отняли. Они заранее поднимали воротники, ожидая побоев, ложились на хлеб и ели, ели, ели. А на лестницах домов ожидали другие воры и у ослабевших отнимали продукты, карточки, паспорта. Особенно трудно было пожилым. Те, у которых были отняты карточки, не могли их восстановить. Достаточно было таким ослабевшим не поесть день или два, как они не могли ходить, а когда переставали действовать ноги — наступал конец. Обычно семьи умирали не сразу. Пока в семье был хоть один, кто мог ходить и выкупать хлеб, остальные, лежавшие, были еще живы. Но достаточно было этому последнему перестать ходить или свалиться где-нибудь на улице, на лестнице (особенно тяжело было тем, кто жил на высоких этажах), как наступал конец всей семье.
По улицам лежали трупы. Их никто не подбирал. Кто были умершие? Может быть, у той женщины еще жив ребенок, который ее ждет в пустой холодной и темной квартире? Было очень много женщин, которые кормили своих детей, отнимая у себя необходимый им кусок. Матери эти умирали первыми, а ребнок оставался один. Так умерла наша сослуживица по издательству — О. Г. Давидович. Она все отдавала ребенку. Ее нашли мертвой в своей комнате. Она лежала на постели. Ребенок был с ней под одеялом, теребил мать за нос, пытаясь ее «разбудить». А через несколько дней в комнату Давидович пришли ее «богатые» родственники, чтобы взять... но не ребенка, а несколько оставшихся от нее колец и брошек. Ребенок умер позже в детском саду.
У валявшихся на улицах трупов обрезали мягкие части. Началось людоедство! Сперва трупы раздевали, потом обрезали до костей, мяса на них почти не было, обрезанные и голые трупы были страшны.
Так съели одну из служащих Издательства АН СССР — Вавилову. Она пошла за мясом (ей сказали адрес, где можно было выменять вещи на мясо) и не вернулась. Погибла где-то около Сытного рынка. Она сравнительно хорошо выглядела. Мы боялись выводить детей на улицу даже днем.
Несмотря на отсутствие света, воды, радио, газет, государственная власть «наблюдала». Был арестован Г. А. Гуковский. Под арестом его заставили что-то подписать1, а потом посадили Б. И. Коплана, А. И. Никифорова. Арестовали и В. М. Жирмунского. Жирмунского и Гуковского вскоре выпустили, и они вылетели на самолете. А Коплан умер в тюрьме от голода. Дома умерла его жена — дочь А. А. Шахматова. А. И. Никифорова выпустили, но он был так истощен, что умер вскоре дома (а был он богатырь, русский молодец кровь с молоком, купался всегда зимой в проруби против Биржи на Стрелке).
Мне неоднократно приходилось говорить: под следствием людей заставляли подписывать и то, что они не говорили, не писали, не утверждали или то, что они считали совершенными пустяками. В то время, когда власти готовили Ленинград к сдаче, простой разговор двух людей о том, что им придется делать, как скрываться, если Ленинград займут немцы, считался чуть ли не изменой родине.
наш заместитель директора по хозяйственной части Канайлов (фамилия-то какая!) выгонял всех, кто пытался пристроиться и умереть в Пушкинском Доме: чтобы не надо было выносить труп. У нас умирали некоторые рабочие, дворники и уборщицы, которых перевели на казарменное положение, оторвали от семьи, а теперь, когда многие не могли дойти до дому, их вышвыривали умирать на тридцатиградусный мороз. Канайлов бдительно следил за всеми, кто ослабевал. Ни один человек не умер в Пушкинском Доме.
Одна из уборщиц была еще довольно сильна, и она отнимала карточки у умирающих для себя и Канайлова. Я был в кабинете у Канайлова. Входит умирающий рабочий (Канайлов и уборщица думали, что он не сможет уже подняться с постели), вид у него был страшный (изо рта бежала слюна, глаза вылезли, вылезли и зубы). Он появился в дверях кабинета Канайлова как привидение, как полуразложившийся труп и глухо говорил только одно слово: «Карточки, карточки!» Канайлов не сразу разобрал, что тот говорит, но когда понял, что он просит отдать ему карточки, страшно рассвирепел, ругал его и толкнул. Тот упал. Что произошло дальше, не помню. Должно быть, и его вытолкали на улицу. Теперь Канайлов работает в Саратове, кажется, член Горсовета, вообще — «занимает должность».
Власть в городе приободрилась: вместо старых истощенных милиционеров по дороге смерти прислали новых — здоровых. Говорили — из Вологодской области.
Я думаю, что подлинная жизнь — это голод, все остальное мираж. В голод люди показали себя, обнажились, освободились от всяческой мишуры: одни оказались замечательные, беспримерные герои, другие — злодеи, мерзавцы, убийцы, людоеды. Середины не было.
Модзалевские уехали из Ленинграда, бросив умиравшую дочурку в больнице. Этим они спасли жизнь других своих детей. Эйхенбаумы кормили одну из дочек, так как иначе умерли бы обе. Салтыковы весной, уезжая из Ленинграда, оставили на перроне Финляндского вокзала свою мать привязанной к саночкам, так как ее не пропустил саннадзор. Оставляли умирающих: матерей, отцов, жен, детей; переставали кормить тех, кого «бесполезно» было кормить; выбирали, кого из детей спасти; покидали в стационарах, в больницах, на перроне, в промерзших квартирах, чтобы спастись самим; обирали умерших — искали у них золотые вещи; выдирали золотые зубы; отрезали пальцы, чтобы снять обручальные кольца у умерших — мужа или жены; раздевали трупы на улице, чтобы забрать у них теплые вещи для живых; отрезали остатки иссохшей кожи на трупах, чтобы сварить из нее суп для детей; готовы были отрезать мясо у себя для детей; покидаемые — оставались безмолвно, писали дневники и записки, чтобы после хоть кто-нибудь узнал о том, как умирали миллионы. Разве страшны были вновь начинавшиеся обстрелы и налеты немецкой авиации? Кого они могли напугать? Сытых ведь не было.
Только умирающий от голода живет настоящей жизнью, может совершить величайшую подлость и величайшее самопожертвование, не боясь смерти. И мозг умирает последним: тогда, когда умерла совесть, страх, способность двигаться, чувствовать у одних и когда умер эгоизм, чувство самосохранения, трусость, боль — у других. Правда о ленинградской блокаде никогда не будет напечатана.
10.09.2021, Новые истории - основной выпуск
Было восемь детей, всем, вероятно, младше 12 лет. По тому, как они были одеты, можно было сказать, что у них не было много денег, но их одежда была опрятной и чистой.
Дети вели себя хорошо, все стояли в очереди по два на два позади родителей, держась за руки. Они возбужденно болтали о клоунах, животных и обо всем, что им предстояло увидеть той ночью. По их волнению можно было понять, что они никогда раньше не были в цирке. Это было бы изюминкой их жизни.
Отец и мать гордо стояли во главе стаи. Мать держала мужа за руку, глядя на него, как бы говоря: «Ты мой рыцарь в сияющих доспехах». Он улыбался и наслаждался счастьем своей семьи. Продавщица по билетам спросила мужчину, сколько билетов он хочет? Он с гордостью ответил: «Я хотел бы купить восемь билетов для детей и два билета для взрослых». Продавщица по билетам сообщила цену.
Жена мужчины выпустила его руку, ее голова опустилась, губы мужчины задрожали. Затем он наклонился немного ближе и спросил: «Сколько Вы сказали?» Продавщица билетов снова назвала цену. У человека не хватило денег. Как он должен был повернуться и сказать своим восьми детям, что у него недостаточно денег, чтобы водить их в цирк?
Увидев, что происходит, мой отец полез в карман, вытащил 20-долларовую купюру и бросил ее на землю. (Мы не были богаты ни в каком смысле этого слова!) Мой отец наклонился, взял 20-долларовую купюру, похлопал человека по плечу и сказал: «Простите, сэр, это выпало из вашего кармана».
Мужчина понял, что происходит. Он не просил подачки, но определенно ценил помощь в отчаянной, душераздирающей и неловкой ситуации.
Он посмотрел прямо в глаза моему отцу, взял его обеими руками за руку, крепко сжал 20-долларовую купюру и, дрожа губами и слезы текли по его щеке, ответил; «Спасибо, спасибо, сэр. Это действительно много значит для меня и моей семьи».
Мы с отцом вернулись к машине и поехали домой. На 20 долларов, которые дал мой отец, мы собирались купить себе билеты. Хотя в ту ночь нам не удалось увидеть цирк, мы оба почувствовали внутри себя радость, которая была намного больше, чем когда-либо мог дать цирк.
В тот день я узнала ценность «Давать». Дающий больше Принимающего. Если вы хотите быть большим, большим, чем жизнь, научитесь Давать. Любовь не имеет ничего общего с тем, что вы ожидаете получить – только с тем, что вы ожидаете дать,– а это все.
Невозможно переоценить важность даяния и благословения других, потому что в даянии всегда есть радость. Научитесь делать кого-то счастливым, отдавая.
Одри Хепберн
14.09.2021, Новые истории - основной выпуск
В 15 столетии в маленькой деревушке недалеко от Нюрнберга жила семья, в которой было восемнадцать детей. Восемнадцать!
Для того чтобы прокормить такую большую семью, отец, золотых дел мастер, работал по восемнадцать часов в день. Он работал в ювелирной мастерской, но также брался за любую оплачиваемую работу.
Несмотря на почти безнадежное положение, у двоих детей была мечта. Они хотели развивать свой талант в искусстве, но они знали, что их отец не сможет отправить ни одного из них на обучение в Академию в Нюрнберг. После долгих ночных обсуждений эти два мальчика заключили соглашение друг с другом. Они решили бросить монету. Проигравший пойдет работать в шахты, и на свои заработки будет оплачивать обучение брату. А потом, когда брат закончит обучение, он будет оплачивать учебу своему брату, работавшему в шахте, продавая свои работы, а если будет нужно, то также работая в шахтах.
Они бросили монету в воскресенье утром, после церкви. Альбрехт Дюрер выиграл и поехал в Нюрнберг. Альберт пошел работать в опасные шахты, и на протяжении четырех лет он оплачивал обучение брата, чьи работы в Академии сразу же стали сенсацией.
Гравюры Альбрехта, его ксилогравюры и его картины превосходили даже работы многих его профессоров. К моменту окончания учебы он уже стал зарабатывать неплохие суммы за свои работы. Когда юный художник вернулся в свою деревню, семья Дюрер устроила праздничный обед на лужайке, чтобы отпраздновать триумфальное возвращение Альбрехта.
После долгого и незабываемого обеда, за которым звучало много музыки и смеха, Альбрехт встал со своего почетного места во главе стола, чтобы поднять тост за своего любимого брата, который столько лет жертвовал, чтобы исполнить мечту Альбрехта. В конце своей речи он сказал: «Теперь, Альберт, мой благословенный брат, пришел твой черед. Теперь ты можешь поехать в Нюрнберг за своей мечтой, и я буду заботиться о тебе».
Все повернулись с ожиданием к Альберту, который сидел в другом конце стола. Слезы потекли по его бледному лицу, он покачал головой, всхлипывая и повторяя: «Нет...нет...нет...нет». Наконец он встал и вытер слезы. Он посмотрел на лица людей, которых он так любил, а потом, подняв руки к лицу, мягко сказал: «Нет, брат. Я не могу поехать в Нюрнберг. Уже слишком поздно для меня. Посмотри! Посмотри, что эти четыре года в шахтах сделали с моими руками! Кости на каждом пальце были переломаны как минимум один раз, и недавно у меня появился артрит в правой руке, что я даже не могу удержать бокал во время тоста, а уж тем более я не смогу провести красивые линии на пергаменте или холсте карандашом или кистью.
Нет, брат, для меня уже поздно».Более 450 лет прошло. Сейчас сотни портретов, рисунков ручкой или серебряным карандашом, акварелью, рисунки угольным карандашом, ксилогравюры и гравюры на меди висят в каждом великом музее в мире. Скорее всего, вы знакомы хотя бы с одной работой Альбрехта Дюрера. Может быть, у вас дома или в офисе также висит репродукция одной из его работ.
Как-то, чтобы отдать дань уважения Альберту за всю его жертву, Альбрехт нарисовал загрубевшие руки своего брата, направленные в небо. Он назвал свою сильную картину очень просто: «Руки». Но весь мир почти сразу открыл свои сердца этому шедевру и назвал эту картину «Руки молящегося».
- Мы поговорим об этом утром, - сказала она. – Сейчас мне надо поспать.
Утром она сказала, что женитьба – это не очень хорошая идея, а на самом деле, даже очень плохая, но она все равно согласна. Она была права: это была плохая идея. Молодая женщина Табита Спрюс еще не закончила обучение. Я выпустился, но не мог устроиться учителем. Я работал в промышленной прачечной, получая зарплату немногим превышавшую прожиточный минимум. У нас был кредит на обучение, никаких сбережений и никаких льгот. У меня было две пары нижнего белья, две пары джинсов, пара туфель, и проблемы с выпивкой. Мы помнили об этом, назначая дату: 2 января 1971 года.
Той осенью мы сели в автобус, идущий из Старого Города, где жила Табби, до Бангора, где находился известный ювелирный магазин Дейз. Мы попросили показать самый дешевый комплект из двух обручальных колец, который был в продаже. С великолепной профессиональной улыбкой, в которой не было ни капли снисхождения, продавец показал нам пару тонких золотых полосок за 15 долларов. Я достал бумажник, который тогда пристегивал байкерской цепочкой к шлевке джинсов, и заплатил за них. В автобусе по дороге домой я сказал: «Готов поспорить, они оставят зеленый след на наших пальцах». Табби, всегда колкая на язык, ответила: «Надеюсь, мы проносим их достаточно долго, чтобы узнать это».
Десять недель спустя или около того, мы надели эти кольца друг другу на пальцы. Костюм, который я надел, был слишком велик для меня - я взял его взаймы у будущего шурина, - а моим галстуком гордился бы сам Джерри Гарсия. Моя новоиспеченная жена была одета в голубой брючный костюм, несколько месяцев до этого служивший нарядом подружки невесты на свадьбе ее подруги. Она была великолепна и напугана до смерти. Мы поехали на свадебный прием (бутерброды с тунцом и содовая) на моей машине, стареющем Бьюике с дышащей на ладан коробкой передач. Я все время трогал большим пальцем кольцо на безымянном пальце левой руки.
Несколько лет спустя – три? пять? – когда Табби мыла посуду, ее кольцо соскользнуло с пальца и упало в сливное отверстие. Я вырвал заглушку слива, пытаясь найти его, но в темноте обнаружил лишь заколку. Кольцо исчезло. Тогда я уже мог купить вместо него новое, более изящное, но она все равно заливалась горькими слезами из-за потери первого настоящего кольца. Оно не стоило и восьми долларов - оно было бесценно.
Жизнь хорошо обошлась со мной в вопросе карьеры. Я написал бестселлеры и заработал миллионы долларов. Но я ни разу не снимал это дешевое кольцо с левой руки с того самого дня, как моя жена с дрожащими губами и руками и блестящими глазами надела его. Знаю, знаю, похоже на песню в стиле кантри. Но в жизни так часто и бывает. Кольцо служит напоминанием, как мы жили тогда: крошечная трехкомнатная квартирка, плохо работающая плита и шумящий холодильник, скрипящие половицы, дом с зимней осадкой, уличный шум по ночам и плакат над раковиной с надписью: ДРУГ МОЙ, У НАС СОВСЕМ НЕ ОСТАЛОСЬ СИЛ. Кольцо заставляет задумываться о будущем, помнить, что у нас было (почти ничего) и какими мы были (чертовски хорошими ребятами). Не дает забыть, что цена вещи и ее ценность - не обязательно одно и то же.
Прошло уже 42 года, а зеленого следа все ещё нет.
Стивен Кинг
22.09.2021, Новые истории - основной выпуск
В чебуречной два человека играли в шахматы: дед в ватнике с всклокоченной бородой и юноша лет пятнадцати с зеленоватым лицом. На столе стояла миска, вымазанная сметаной, и лежали алюминиевые вилки, которыми они поочередно вылавливали пельмени, закусывая содержимое двух стаканов. После каждого хода парень, озираясь, доставал из-за пазухи пальто портвейн, и разливал. - Не дрейфь, - громко говорил дед, с вызовом глядя на буфетчицу. Распивать спиртные напитки в чебуречной было запрещено.
Карпова никто не узнавал. Он взял три чебурека и томатный сок, и уселся за соседний столик, наблюдая за партией. Играли без часов. Позиция казалась чемпиону незнакомой. Минут через десять ситуация на доске стала для старика критической, и он сдался.
- Получите, - сказал дед, и вынул из кармана рубль. Играли, таким образом, на деньги. Парнишка разлил остатки и поставил бутылку на пол. Там уже стояли две пустые. - Слушай, сходи-ка еще за одной? – попросил старик. Виночерпий согласился, оба вынули из кармана мелочь и стали скидываться на пузырь. Вскоре он ушел.
Карпов решил подшутить над дедом. – Не желаете, партию? - предложил он.
- Охотно. Только я играю на интерес.
- Сколько?
- Червонец, - ответил дед. По тем временам это была большая сумма. Анатолий Евгеньевич решил, что требовать денег не будет, честно во всем признается, и даже подарит старику книжку со своими дебютами, которую он носил для такого случая. - Годится, - согласился Карпов, пересел к деду, отставил грязный стакан и начал расставлять фигуры.
Доска была истёрта до невообразимой степени. Кое-где невозможно было различить цвет поля. Нумерацию обновили шариковой ручкой. Вместо черной ладьи играли пуговицей. Старик взял две пешки и зажал их в пальцах с большими желтыми ногтями. Карпову выпало играть белыми.
- Ну-с, приступим, - чемпион мира потер руки, и пошел Е4. Противник допил вино и ответил Е5.
Когда через двадцать минут вернулся синий юноша с бутылкой, достаточно было беглого взгляда, чтобы понять, что ситуация для Карпова сложилась критическая. Он потерял ферзя, и отчаянно спасал своего короля в эндшпиле. Старик потребовал вина. Гонец откупорил зубами – портвейн тогда не запирался пробкой – и налил. Через три минуты наступила развязка.
- Рассчитаемся? - предложил победитель. Карпов сидел, как оглушенный. Он отстранено вытащил из бумажника десятку, сглотнул сухую слюну и пригладил длинные волосы.
- Еще?
Чемпион кивнул и начал живо расставлять фигуры.
К вечеру чебуречная была забита под завязку; по городу прошел слух, что на шестой линии играет Карпов. Народ теснился, заглядывая через плечи. Когда кто-то закуривал – его выгоняли вон, на улицу, дышать было совсем нечем. После удачного хода публика разражалась аплодисментами. Фиолетовый юноша еще два раза сбегал за бормотухой.
К концу десятой партии Карпов как будто очнулся, огляделся кругом себя и подумал: «Господи, что я здесь делаю, и кто все эти люди?» Из десяти он проиграл семь и одну свел вничью. Чемпион мира встал, шатаясь, как канатоходец, и окончательно рассчитался.
- Неплохо, паренек, ты играешь, - похвалил его старик, пряча выигрыш. Они пожали друг другу руки, и Карпов, как в тумане, побрел к двери. Публика расступилась. На улице было свежо, слегка моросило. В руке его была книжка с дебютами. Он аккуратно положил её в урну, и пошел к метро Василеостровская. После этого случая Карпов никогда больше не играл на деньги.
Игорь Поночевный
Муж хочет купить породистую собаку. Мол, порода-это благородство, ум, верность. Но я очень попросила с'ездить со мной в один приют, и он нехотя согласился. За всю нашу совместную жизнь, а прожили мы немало годочков вместе, Николай мне ни разу не перечил. Почему собаку, спросите вы, а не ребенка? Мы люди одинокие и уже в почтенном возрасте.
Оба мы понимаем ответственность за то существо, которое приручили. Ребенка надо вырастить, воспитать, дать образование. Это долговременный "проект", а с собакой мы будем вместе до самого конца. Это будет наш общий с Колей ребеночек.
В приюте нам открылась жуткая картин. Стоял тошнотворный запах, да еще к этому примешивался нескончаемый лай и вой, выворачивающий душу на изнанку. Все собаки, как беспризорные дети смотрели на нас с надеждой, будто тянули руки навстречу. Мы с мужем шли вдоль нескончаемых тесных клеток и сотни глаз сопровождали нас, следили за каждым нашим шагом. Господи, да за что же так страдают эти животные ?! Мне кажется, если у нас не будет обездоленных животных, то и детей-отказников не будет, сиротские дома просто вымрут за ненадобностью.
Животное, что дитя, требует терпения, любви, заботы, да еще и говорит на "иностранном" языке, который мы не всегда пытаемся понять и часто переводим как нам выгодно.
Вдруг Николай остановился как вкопанный у одной из клетушек. Там лежал пес, безучастный ко всему на свете с потухшим взглядом. Он никак не прореагировал на наше внезапное появление. Казалось, он оглох и ослеп. "Зачем вам этот оборванец, возьмите лучше вот этого, как никак порода,"- поспешил к нам "смотритель музея".
"Это отказник, его не раз предавали и возвращали, такое ощущение, что он решил голодовкой свести счеты со своей никчемной жизнью"- девушка-волонтер с горечью в голосе констатировала факты биографии этого печального бедняги. Николай попробовал заговорить с собакой, тот презрительно отвернулся, он больше не верил людям.
"Знаете, он очень хороший, послушный, ну и что, что дворняга, зато очень верный, в отличие от "царей природы", - в голосе девушки появились нотки надежды, она неотрывно следовала за нами и ловила каждый жест.
Я протянула руку сквозь прутья,чтобы погладить собаку. Пес неожиданно повернулся в мою сторону, полоснул обжигающим взглядом и уткнулся носом в мою ладонь. Нос был чуточку влажный, горячее дыхание защекотало кожу. Я засмеялась. Пес протяжно вздохнул, приподнялся на лапах и завилял хвостом.
"Чудо!"- запричитала девушка-волонтер, -"Вы первые, на кого он отреагировал". "Ветеринар уже начал готовить его к усыплению"-вставил заведующий приютом, человек в общем неплохой, но равнодушный к своей работе.
Девушка зачастила: "А вы знаете, пес будто все понимает и по ночам тихонько воет, оплакивает свою горькую долю, у него и слезы текут из глаз".
"Вы не видели, как плачут собаки, а я видела!"- вдруг она с горечью выпалила и отвела увлажнившиеся глаза.
Надо было видеть моего Колю в этот момент. Он так стал похож на этого пса, побитого жизнью. Никогда не забуду эти его глаза, такие по-собачьи вымаливающие милость. А рядом глаза песеля. Мы долго смотрели глаза в глаза. Там, в глубине его Души бушевала буря эмоций, он не забыл предательств людских, но он так хотел семью!
Вдруг в нем проснулась тяга жить! Он завыл, протяжно и скорбно, словно выплескивая всю боль. К нашему вольеру сбежались все служащие приюта. Многие плакали, не скрывая слез. Николай стоял перед собакой на коленях, будто вымаливая прощение за грехи всего рода человеческого.
"Его зовут Верный",- сказал один из служащих, передавая нам в руки поводок.
Нас провожали всем приютом. Кто-то очень набожный перекрестил нас украдкой. И этот крест скрепил навечно наш союз троих.
Муж напрочь забыл о покупке породистой собаки. Да и вообще, "купить собаку" довольно странно звучит, вам так не кажется? Разве можно купить друга, а верность и любовь продаются ? Пес семенил рядом с нами, Николай отпустил его с поводка, пусть насладится всласть свободой. А тот будто знал, что с нами он до самого конца и он больше никогда не заплачет.
Мы зашли домой, я сразу поставила варить овощи и яйца. Открыли бутылочку Бордо. И тут я понимаю, что не засекла время варки яиц.
Я встаю, беру столовую ложку, вылавливаю одно яйцо, кладу на стол и резко кручу. Яйцо крутится быстро, я понимаю, что оно сварилось «вкрутую» и можно выключать. Сливаю горячую воду, заливаю холодной и сажусь опять за стол. Онемевший Сириль смотрит на меня, он застыл с фужером вина и молчит. Я тоже молчу и жду его дальнейшей реакции, так как не понимаю в чем дело. Сидим как идиоты. Через секунд 10 он выдает: «Ты зачем крутила яйца? ».
Я на полном серьезе отвечаю: «Забыла засечь время и хотела проверить их готовность». Он впадает в окончательный шок, затем залпом выпив стакан и видимо сделав какие-то умозаключения, говорит: «То есть ты утверждаешь, что сырые и вареные яйца крутятся с разной скоростью? » Я говорю: «Ну да! ».
Тут начинает смеяться подруга, я тоже понимаю, в чем дело. Сириль сидит в шоке… «Да такого не может быть! »- выдает он наконец. Я решаю доказать, что он не прав. Ищу сырые яйца в холодильнике, что бы провести эксперимент, а их нет (Во Франции яйца в основном продают в упаковках по 4 штуки). Решаем пойти в магазин и купить еще.
На улице уже дождик не моросит, там ливень! Пофиг! Взяли зонт (один на троих) и пошли, по дороге он встретил 2 однокурсников и рассказал им всю ситуацию, они заинтересовались (естественно не поверили! ) и тоже решили пойти с нами. Мы купили яйца и возвращаемся домой.
Одному из друзей Сириля звонит его девушка и говорит, что она с братом и двумя подругами уже его ждет, а он говорит : «Я немного задержусь, мы встретили Сириля и хотим провести эксперимент». Рассказывает им ситуацию. Те тоже заинтересовались, и сказали, что через 10 минут подъедут. Мы решили их подождать на улице.
Стоим… Ливень, пять человек под одним зонтом и в руке яйца. Мимо шла молодая пара, оказалось соседи Сириля. А французы любопытные блин! Тоже поинтересовались: «Чего ребята мокнете? ? Ключи забыли? ? » наши друзья-французы уже хором и наперебой рассказывают историю про яйца и про готовящийся эксперимент. Сириль и их приглашает!
Наконец-то подъехали ребята, которых мы ждали и мы ЦЕЛОЙ ТОЛПОЙ идем «крутить яйца»! Я положила на стол два яйца: одно – вареное, другое – сырое. И такая гордая говорю: «Смотрите! ». И кручу яйца. Естественно яйца крутились с разной скоростью, и сырое крутилось намного медленнее. Так они мне сказали, что я мухлюю, что я специально кручу с разной силой!
Никто из французов не поверил, что у них разная скорость. Они говорили, что одинаковые яйца по весу и форме крутиться должны одинаково (плохо у них с физикой совсем). Я говорю: «Давайте теперь сами пробуйте! » И тут началось! ! Они начали подходить и крутить яйца.
Представляете себе картину: Париж, кухня, очередь из французов к столу на котором крутят яйца! Когда очередной француз крутил яйца и понимал, что они действительно крутятся с разной скоростью, он отходил в сторону, наливал стакан вина и молча смотрел на остальных. И в глазах такааааая задумчивость, как будто смысл жизни поменялся.
В конце «кручения яиц» мне один парень сказал: «Русские – это гениальные люди! » на что я ответила: «Мы сами удивляемся своей жизни» и воодушевленная такой фразой решила показать ролик про Россию, где переворачивается грузовик с коровами и женщина отрывает бампер у автомобиля.
Француз долго молчал, а потом говорит: «В РОССИИ ЖИВЁТ НЕОБЫКНОВЕННЫЙ НАРОД
И знаешь что? Мне искренне жаль Америку, она от вас ожидает одно, а вы ей в ответ совсем другое. Я бы очень хотел, что бы Франция и Россия жили дружно, потому что Франции с Вами нельзя ссориться. Один раз воевали и больше не хотим. Вашу логику вычислить невозможно».
Мое самолюбие очень тронули эти слова и мы счастливые пошли допивать Бордо».
29.09.2021, Новые истории - основной выпуск
Квартиру ему сняло посольство.
И он пошёл в ближайший магазин, вознамерившись купить курицу. Потом он собирался сварить себе на плите бульон.
Придя в магазин, Вейд понял, что это отнюдь не супермаркет, за прилавком стояла продавщица-абориген, и на все его англоязычные мольбы о курице, отвечала — нихт ферштейн.
Тогда Вейд подключил воображение, и голосом и согнутыми в локтях руками изобразил кудахтанье и движения собиравшейся взлететь домашней птицы.
Продавщица просияла, — Ага! Поняла! — и выдала Вейду лоток с тремя десятками яиц.
Но Вейд и тут не растерялся, и строго сказал по-русски:
— Нет! — и показав пальцем на яйца, сказал, — Мама!
06.10.2021, Новые истории - основной выпуск
- Масочку снимите, пожалуйста.
Сила привычки.
(с)
08.10.2021, Новые истории - основной выпуск
Сколько себя помню в детстве, постоянного жилья у нас не было, все время скитались и снимали квартиры.
Когда мне было пять лет, мать познакомилась с очередным мужчиной и захотела быть с ним, но он поставил ей условие, что возьмет ее, если она будет одна.
Та легко и просто променяла сына на этого мужика. Просто привезла меня к моему отцу, дав в руки все необходимые документы. Она позвонила в дверь его квартиры, услышала звук открывающего замка и убежала. А я остался стоять.
Дверь открыл отец и опешил увидев меня. Он понял сразу, кто я. Завел в квартиру.
Его жена приняла меня хорошо -также, как и их дети, дочка и сын. Отец хотел сначала отдать меня в приют, но его супруга не дала этого сделать, сказав, что я ни в чем не виноват. Просто святая женщина.
Я поначалу ждал свою родную мать, думал, что она вот-вот вернется за мной. А потом перестал, и начал жену своего отца называть мамой.
Мой родной отец не питал ни к одному своему ребенку теплых чувств, не говоря уже обо мне. Меня он считал лишним ртом, но продолжал содержать, как и остальных членов семьи.
Сам он был довольно-таки деспотичным человеком. Когда приходил домой, мы запирались все вместе в детской комнате и старались не попадаться ему на глаза. Его жена не могла уйти от властного мужа, детей он бы не отдал ей из принципа. Вот так годами и терпела все его гуляния и припадки злости. Она научилась его избегать и когда нужно, подавлять его гнев, защищала нас от скандалов и криков. В доме была тишина, мы знали расписание и не нервировали отца. Главное, мы не нуждались ни в чем, а мама дарила нам любовь и ласку за двоих.
И когда он все-таки ушел к очередной молодой любовнице, мы все вздохнули с облегчением. На тот момент мы уже были практически взрослыми. Сестра и брат заканчивали школу. По стечению обстоятельств, мы были ровесниками, поэтому я тоже готовился к выпускным экзаменам в школе. Вот так, трое выпускников. Мы помогали друг другу, подтягивая по предметам.
Каждый из нас мечтал поступить в престижный институт. Отец, хоть и не был с нами ласков, но оплатить учебу обещал и сдержал свое слово. Мы поступили и выучились, получив те специальности, о которых мечтали.
А потом случилось так, что наш отец умер. После него осталось хорошее наследство.
Его последней любовнице не досталось ничего — она просто не успела его женить на себе. Ну а мы все стали полноправными хозяевами его фирмы и денежных счетов.
Мы продолжили развивать бизнес. И настал тот момент, когда нужно было ехать за границу, открывать новый филиал. Решили, что главным в том филиале буду я.
Я предложил забрать с собой нашу маму — она как никто другой, достойна была уехать в теплую страну. Мои сестра с братом, поддержали мою идею.
И вот настал тот момент, когда мы должны были уезжать. И тут вдруг нарисовалась моя родная мать. Я узнал ее сразу. Моя детская память запечатлела ее образ на долгие годы.
Она решила вдруг вспомнить обо мне, узнав, что я уезжаю:
«Сынок, я твоя настоящая мать! Неужели ты забыл меня? Ты стал таким взрослым.
А я так скучала и переживала, как ты живешь. Давай наконец-то будем жить вместе!»
Я поражен был ее наглостью:
«Конечно я помню тебя! Помню, как ты убегала от дверей, оставив меня совсем еще маленьким.
И ты мне не мать. Моя мама сейчас уезжает вместе со мной. А тебя я даже знать не хочу».
Развернулся и ушел. И ни капли не сожалею об этом.
Моя мама — та, что не побоялась взять ребенка своего мужа от посторонней женщины, воспитавшая меня в любви и ласке. Она сидела со мной, когда я болел, она была рядом когда мне первый раз разбили сердце, она успокаивала меня после ссор с друзьями, учила меня, прощала мне шалости и глупости, терпела мои капризы в подростковый возраст, никогда не напоминала, что я ей не родной. Для нее я стал сыном, для меня она стала мамой! Другой у меня нет!
Мы уехали с ней в другую страну. Там я встретил свою будущую жену, маме она понравилась и у них хорошие отношения. Мама не стала помехой моей личной жизни, более того, она отважилась устроить свою жизнь. Она встретила милого мужчину, я был только за. Она заслужила свое счастье! Сейчас мама много путешествует, часто навещает своих детей и внуков. Я смотрю в ее радостные глаза и понимаю — я рад, что она есть в моей жизни. Она мой ангел-хранитель!
08.10.2021, Новые истории - основной выпуск
Сценаристом и режиссёром фильма стал фронтовик Пётр Тодоровский, а в основу сюжета легла реальная встреча. Уже после войны он случайно увидел около ЦУМа женщину, в которую на фронте был влюблён его комбат, а заодно и все юные солдаты — она была необычайно хороша собой. Сейчас же узнать её можно было только по характерному смеху… Женщина стояла в стоптанных валенках, укутанная поверх телогрейки какими-то платками и хрипло выкрикивала: «Пирожки! Кому пирожки?!». Рядом с ней сидела маленькая девочка. Тодоровский к бывшей «фронтовой королеве» не подошёл, но забыть встречу не мог долгие годы и всё представлял, как сложилась её судьба.
Через много лет после этой встречи Тодоровский написал сценарий «Военно-полевого романа», от которого отказывались все киностудии. Никто не хотел снимать фильм про бытовую неустроенность, коммуналки и эхо войны. Согласилась запустить фильм только Одесская киностудия, но выделила на съёмки только 380 тысяч рублей.
В роли Любы режиссёр видел только Наталью Андрейченко, но её муж был против. Она недавно родила ребёнка, и Максим Дунаевский не хотел, чтобы жена так быстро приступала к работе… Начали искать замену и среди подходящих кандидатур были Анастасия Вертинская и Татьяна Догилева, но режиссёр не оставлял надежды уговорить Андрейченко. Однажды он наудачу позвонил ей ещё раз, и она согласилась, несмотря на недовольство мужа — самой актрисе сценарий очень нравился.
На роль Саши Нетужилина режиссёр пригласил Николая Бурляева. Актёр за ночь прочитал сценарий и потом рассказывал, что буквально обливался слезами — настолько его проняла история этой послевоенной встречи. Ради роли в этом фильме он был готов даже отложить запуск собственной картины. С утра Бурляев прибежал на пробы, увидел в коридоре Петра Тодоровского, обнял его и сказал: ««Кончайте пробы! Эту роль я никому не отдам». И пробы, действительно, закончили. И когда уже после выхода картины иностранные журналисты спросили актёра есть ещё такие люди как Нетужилин, то Бурляев ответил, что таких — вся страна. Нетужилина Тодоровский сначала хотел сыграть сам, но помешал солидный возраст, потом рассматривал кандидатуру Виктора Проскурина, но в результате отдал ему другую роль.
Сами попросились в фильм фронтовик Зиновий Гердт и Всеволод Шиловский. Прихрамывающий Гердт говорил другу-режиссёру: «В любом твоем фильме я сыграю что угодно. Скажешь сыграть лошадь — сыграю. Только учти — она будет хромать на левую заднюю». Специально для актёра в «Военно-полевом романе» появилась небольшая роль администратора кинотеатра. Всеволод Шиловский выпросил для себя роль дяди Гриши. Тодоровский удивился — зачем ему этот неприятный герой, да ещё и съёмок всего два дня… Шиловский ответил, что один «лейтенант Тодоровский» сам ему рассказывал про молодых людей, которые вернулись с фронта и оказались никому не нужны. И он хочет у «лейтенанта Тодоровского» сыграть именно такого персонажа.
Текст заглавной песни «Рио-Рита» написал Геннадий Шпаликов. Музыку к ней написал режиссёр Пётр Тодоровский, вдохновлённый одноимённым пасадоблем 30-х годов — эта мелодия была очень популярна перед войной. Много лет спустя Тодоровский снял военную драму под названием «Риорита», которая стала его последней работой в кино. В фильме песня звучит в исполнении Павла Смеяна.
Готовый материал Тодоровский привез в Москву — показывать худосовету на «Мосфильме». Цензура потребовала вырезать упоминание о репрессированных родителях Веры, которую играла Инна Чурикова, и убрать из фильма соседа-гэбэшника. Сосед остался в эпизоде, но подсматривать и подслушивать за героями перестал — эти сцены пришлось вырезать.
В 1983 году «Военно-полевой роман» был номинирован на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, но статуэтка ушла швейцарскому режиссёру за шахматную драму «Диагональ слона» о противостоянии СССР и Запада. Зато на международном фестивале в Испании фильм получил приз за лучший сценарий и Инне Чуриковой вручили награду за исполнение женской роли второго плана, а на кинофестивале в Берлине Наталья Андрейченко получила «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль.
09.10.2021, Новые истории - основной выпуск
Тайманов вспомнил, что некоторое время тому назад проводил аналогичный сеанс гроссмейстер Гуфельд, и сказал организаторам:
- Готов дать сеанс на условиях Гуфельда.
Организаторы сразу же стали возражать:
- Нет, нет! Только не это! Правда, ваш коллега запросил лишь хороший отель и питание раз в день в ресторане. Мы поразились его скромности и сразу же согласились. Но всё обернулось непомерными расходами. Гуфельд действительно питался в дорогом ресторане всего один раз, но... с утра до вечера.
10.10.2021, Новые истории - основной выпуск
Еще с детства Джон отличался редким остроумием и ехидством. Когда его мама нашла себе нового мужчину, четырёхлетнего Джона взяли на воспитание тётя и дядя. Когда он учился играть на гитаре, тетя Мими ворчала: «Гитара — хорошая вещь, но она никогда не поможет тебе заработать на жизнь!». Позже, на пике своего успеха, Джон купил тёте роскошный особняк на побережье и украсил холл мраморной доской с ее словами.